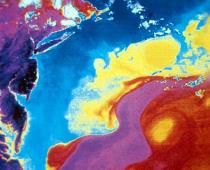Лекция 66 Обращение
В лекции даётся понятие об обращении и знаках препинания при них.
Обращение
В лекции даётся понятие об обращении и знаках препинания при них.
План лекции
66.1. Понятие об обращении
66.2. Пунктуация при обращении
66.1. Понятие об обращении
Обращение - это имя в форме именительного падежа, возможности с зависящими от него словоформами, в составе предложения или в относительно независимой позиции при нём, называющее того, кому адресована речь.
Это может быть название лица, живого существа, неодушевлённого предмета или явления.
Старик! Я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. (Лермонтов)
Дай, Джим, на счастье лапу мне. (Есенин)
Откройся, мысль! Стань музой, слово. (Заболоцкий)
Обращение может входить в предложение любой структуры.
Обращение может открывать собой предложение, находиться в его середине или в конце.
Если речь обращена к нескольким лицам или предметам, то в предложение может быть введено несколько обращений:
Пойте, люди, города и реки.
Пойте, горы, степи и поля! (Сурков)
Несколько обращений к одному адресату обычны в случае их экспрессивной окрашенности:
Подруга дней моих суровых, подруга дряхлая моя! Одна в глуши лесов сосновых давно, давно ты ждёшь меня. (Пушкин)
В роли обращения чаще всего выступает существительное; однако обращением может быть и прилагательное (реже - причастие):
Неверная, лукавая, коварная - пляши! (Блок)
В разговорной речи форма именительного падежа существительного - собственного имени или названия лица в обращении может выступать с отсечением флексии: мам, Валь, Коль ; в этих случаях обычно повторение обращения посредством соединяющей и акцентирующей частицы а:
Мам, а мам, сюда!
Эта же частица соединяет и неусечённые формы:
- Барыня, а барыня! - начал опять городовой. (Достоевский)
В состав обращения, выраженного существительным, прилагательным или причастием, может входить притяжательное местоимение мой, вносящее экспрессивный оттенок личной близости к говорящему:
Мать - земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край недавних детских лет,
Отчий край, ты есть иль нет? (Твардовский)
Слово с оценочным или качественно-характеризующим значением в позиции обращения может сочетаться с местоимением второго лица:
Пойми, чудак ты, что ты неправ;
Да пожалейте же его, бесчувственная вы женщина!
Обращение может быть выражено местоимением - существительным:
Глядите на меня, все! (Достоевский)
В сочетании с именем:
Ты, Вася, и ты, Федот, махнём-ка завтра на Лебяжью. (Шегрин)
В функции обращения может выступать сочетание с относительным местоимением, по форме совпадающее с придаточным предложением:
Кто может, на площадь, в город!
Кто может, - поднимайся! (Федин)
Обращение, выраженное одиночным местоимением второго лица несёт экспрессию грубости или фамильярности:
Ступай за шестом, ты! (Тургенев)
Позиция обращения в непринуждённой, фамильярной речи может быть занята словоформой, называющей лицо по внешнему, ситуативному признаку, обычно - случайному:
Эй, ворожник, говоришь по-немецки? (Анненский)
Изолированное обращение - одно или в сочетании с частицей, междометием, произнесённое с соответствующей интонацией, может приобретать самостоятельную коммуникативную значимость - выражать призыв, ласку, угрозу, напоминание, удивление:
(Чехов)
66.2. Пунктуация при обращении
Обращение вместе с относящимся к нему словами выделяется запятыми:
Стихи мои, бегом, бегом. Мне в вас нужда, как никогда. (Пастернак)
Если обращение, стоящее в начале предложения, произносится с восклицательной интонацией, то после него ставится восклицательный знак, а следующее за обращением слово пишется с прописной буквы.
В полном разгаре страда деревенская.
Доля ты, русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать. (Некрасов)
Если обращение распространено и части его отделены друг от друга частями предложения, то каждая часть обращения выделяется запятыми:
Помню, сизенький, кружишься, голубочек, надо мной! (Николаев)
Частица о , стоящая перед обращением, не отделяется от него никакими знаком.
О витязь! Делами твоими гордится великий народ. (Толстой)
Частица а перед повторяющимися обращениями запятой не отделяется:
Иван, а Иван! Помоги мне, пожалуйста.
Если о и а выступают в роли междометий то они в соответствии с правилами отделяются запятой или восклицательным знаком:
О, тоска моя, кручина! Пожалей ты сироту!
Личные местоимения ты, вы , как правило, входят в состав распространённого обращения и лишь в некоторых случаях могут выступать в роли обращения самостоятельно:
Эх ты, доля, эх ты, доля, доля бедняка!
Тяжела ты, безотрадна, тяжела, горька. (Суриков)
Эй вы, сходитесь, лихие друзья!
Основная функция обращения - звательная. Однако обращение может одновременно передавать экспрессивно-эмоциональное отношение (риторическое обращение).
Выводы к лекции №66
Обращение - это слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращаются.
- Если обращение, находящееся в начале предложения, произносится с особым чувством, то после него ставится восклицательный знак.
Друзья! Друзья! Какой раскол в стране, какая грусть в кипении весёлом! (Есенин)
- Слова господин, гражданин, товарищ и частица о , стоящие перед обращением, запятой от него не отделяют.
Мир, мир тебе, о тень поэта… (Тютчев)
- Личные местоимения ты, вы обычно не выступают в роли обращений.
Если вы, читатель, любите осень, то знаете, что осенью вода в реках приобретает от холода яркий синий цвет. (Паустовский) (читатель - обращение, вы подлежащее)
| Дата: 2010-05-22 10:22:29 | Просмотров: 1599 |
Меня всегда удивляет, когда кто-то говорит: «Я не читаю книг». Да, в мире много вещей, занимающих наше время, – фильмы, видеоигры, СМИ. Но вам всё равно стоит найти время для чтения. Если вы не читаете книги, то многое упускаете.
1. Чтение улучшает воображение и творческие способности
Когда мы читаем, то даём новую жизнь записанным словам – они преображаются в нашем воображении. Мы представляем заново образы, звуки, запахи увлекательной истории. А этот труд развивает «творческую мускулатуру» нашего мозга – и мало где можно найти подобные эффективные упражнения.
2. Улучшение интеллекта
Несмотря на все достижения современной техники, чтение остаётся лучшим способом обучения и хранения информации. Те, кто больше прочёл, становятся умнее. Они заполнили свою голову информацией, которой у других нет и не будет без книг.

3. Чтение может изменить вашу жизнь
Некоторые книги могут изменить вашу жизнь так, как вы сами не ожидаете. Такие книги, как «Над пропастью во ржи», «Повелитель мух» или «Цветы для Элджернона» заставили меня иначе смотреть на мир. Эти книги глубоко подействовали на меня, я изменился, прочитав каждую из них. Это сила чтения – путешествие в самого себя, а не только по увлекательному сюжету. Как и после путешествия, после таких книг – вы уже не тот, что раньше.
4.Читатели сексуальны
Согласно исследованиям, женщины считают умных парней сексуальнее тех, у кого средний интеллект. Ум – одно из самых востребованных качеств, какие женщины ищут в мужчинах. Так что, одинокие парни, загляните в книжный магазин!
5. Умение сопереживать
Трудно представить себя на месте кого-то другого, особенно если его мир сильно отличается от вашего.
Чтение – отличный способ «заглянуть в голову другого человека», узнать его мысли и чувства. Вместо того, чтобы смотреть на жизнь из одной точки, вы можете посмотреть на мир другими глазами!

6. Мудрость
Каждый раз, открывая книгу, вы заполняете голову знаниями, фактами, мнениями, сюжетами. Чтение – как бы непрерывная доставка информации. Вместе с этой информацией читатель получает и опыт. Книги - рассказы о чьих-то жизненных уроках, о приобретённом опыте. Это для вас возможность понять, как устроен мир. Читая книги, вы становитесь мудрее.
7. Самосовершенствование
Чем больше вы читаете, тем шире ваш словарный запас. Неудивительно – ведь вы регулярно встречаете в разных книгах столько слов, что вскоре сами начинаете употреблять их в повседневной жизни. Хорошие читатели обычно и сами хорошо пишут. Любой успешный писатель скажет вам, что для улучшения навыков писательства необходимо каждый день читать. Более того, чтение помогает улучшить уверенность в себе. Это может помочь вам во многих сферах жизни, таких как социальные отношения или продвижение по службе.
8. Улучшение навыков мышления
Чтение усиливает аналитическое мышление. Люди, которые читают, определяют закономерности быстрее тех, кто не читает. Чтение делает ваш ум острее и укрепляет синапсы головного мозга, ведь это ещё и тренировка памяти. Другими словами, ваш мозг становится сильнее и быстрее, потому что вы читаете.

9. Улучшение внимания и концентрации
Большинство из нас привыкли к «многозадачности», научились делить своё внимание между телевизором, Интернетом, телефоном и уймой других вещей. Но так мы теряем способность сосредоточиться в нужный момент на одном важном деле. Чтение книги улучшает способность сконцентрироваться. Ведь книга сама по себе требует полной концентрации внимания, потому что если отвлечься, вы теряете нить повествования.
10. У читающих больше шансов на успех
Наверное, можно найти успешных людей, которые не читают книги. Но трудно. Вспомните знаменитых учёных, бизнесменов, писателей, политиков. Если у них у всех есть какой-то общий интерес – то это чтение.
11. Генерация идей
Идеи – мощный двигатель. На них основаны научные и технические достижения. Ими решаются мировые проблемы, излечиваются болезни. Идеи могут изменить нашу жизнь. Когда вы читаете, вы получаете много новых мыслей. Эти мысли крутятся в вашей голове – и помогают создать вашу собственную удивительную идею.

12. Чтение поможет верно расставить приоритеты
Чтение открывает для вас новые возможности. Прочтёте о новых приключениях, другом образе жизни – о разных вещах, о которых прежде даже не вспоминали. Возможно, вы задумаетесь над этим, и поймёте, что хотите изменить свою жизнь и поставить перед собой другие цели. И важно в вашей жизни совсем не то, что вы прежде ставили на первое место.
13. Проживите несколько жизней
Люди, которые не читают, могут прожить только свою собственную жизнь. Читатели же имеют доступ ко многим и многим жизням – реальных или вымышленных персонажей. Мы можем почувствовать то, что чувствовали они, испытать то, что испытывали они.
Собственный жизненный опыт делает нас сильнее и мудрее. Но если вы живёте только одну жизнь, то лишаете себя опыта других людей и уроков от их жизней.
14. Улучшение психического здоровья
Так же, как мышцы тела, мозгу требуется «зарядка», чтобы оставаться здоровым и сильным. Исследования показали, что такая умственная деятельность как чтение, могут замедлить (или даже предотвратить) болезнь Альцгеймера и слабоумие. А люди, которые много читали за свою жизнь, куда позже испытывают на себе возрастное ухудшение памяти и умственных способностей, по сравнению с теми, кто не любил читать.

15. Вокруг света не выходя из дома
Путешествия – самый лучший способ узнать другие народы и культуры. А второй лучший способ – чтение. Оно может открыть для вас целый новый мир – там, прямо за вашим порогом. Написано очень много книг о разных странах, вы можете читать о любом уголке земного шара и познакомиться с жизнью разных народов с помощью книг.
16. Улучшение физического здоровья
Мы читаем обычно в тишине, наедине с собой. Когда вы увлечены хорошей книгой, то находитесь в состоянии, близком к медитации. Чтение расслабляет и успокаивает. В результате – снижение стресса, нормализация кровяного давления. Читающие люди меньше страдают от расстройств настроения.
17. Больше тем для разговора
Чем больше вы узнаёте о новых темах, историях и мнениях, тем проще вам становится завязать беседу. В конце концов, у вас в руках неисчерпаемый источник новых материалов для обсуждения!

18. Исследуйте себя
Вы слышали выражение «потерялся в книге»? Чтение – активный процесс, и вы сами в него активно включаетесь, как бы участвуете в действии. С помощью чтения можно многое узнать о самом себе. Например, вы можете спросить себя, а что бы вы сделали на месте героя книги. И ответ может вас удивить.
19. Расширьте кругозор
Если вы не читаете, то ваш мир тесен. Вы знаете лишь малую долю того, что происходит вокруг вас. Чтение откроет вам, насколько велик мир на самом деле. Есть много предметов, в которых я ничего не смыслил. Только когда я стал читать о них, я осознал, как же мало знал прежде!
Каждый месяц печатаются тысячи книг. Добавим к этому сообщения в блогах и журнальные статьи. Вы всегда можете найти среди этого разнообразия что-то на свой вкус. Более того, сейчас нет ничего проще, чем стать читателем. Библиотеки есть везде – и они бесплатны! Теперь существуют и цифровые копии книг, а значит, даже идти в библиотеку не обязательно.
Итак, учитывая все перечисленные преимущества чтения, нет никаких оснований не читать.
МАЛЬЧИК С СЕРЕБРЯНЫМ ГОРЛОМ
Я сожалею, что документы, касающиеся жизни Жеребцова, утеряны, а то, что дошло до нашего времени, очень отрывочно и скудно.
К счастью, перед самой смертью Жеребцов, будучи уже в отставке, познакомился с писателем Евсеенко. Писатель этот добросовестно поставлял многочисленные рассказы и повести для журналов "Нива" и "Родина". Немудрые эти вещи были рассчитаны на читателя, располагающего множеством свободного времени, преимущественно на дачника, и ни в какой мере не блистали талантом.
Евсеенко не был лишен дара изобразительности, но, как и многие его современники (дело относится к 90-м годам прошлого столетия), был заражен страстью улавливать настроения. Он описывал настроение природы, людей, животных, свое собственное и даже настроение целых городов и подмосковных дачных местностей.
В одной из этих местностей он и познакомился с Жеребцовым, тотчас же опытным глазом определил, что дряхлый и добродушный моряк неизбежно должен хранить в себе некий литературный сюжет, и взялся за выуживание этого сюжета. Сюжета не выудив, Евсеенко все же рассказ написал, но напечатать не успел, так как у него открылась тяжелая стадия чахотки и он был послан в Ялту, где вскоре и умер. Рукопись его рассказа, интересующую меня лишь в меру заключенных в ней сведений о последних днях Жеребцова - первого исследователя Кара-Бугазского залива, я и привожу здесь, сделав необходимые сокращения. Называется рассказ "Роковая ошибка".
"Если вы, читатель, бывали на художественных выставках, то должны помнить картины, где изображены заросшие просвирником провинциальные дворики. Ветхий, но теплый дом со множеством пристроек и крылечек, липы под окнами (в них гнездятся галки), трава, густо растущая среди щепок, черный щенок, привязанный на веревке, и забор с выломанными досками. За забором зеркальная гладь живописной реки и пышное золото осеннего леса. Теплый солнечный день в сентябре.
Дачные поезда, проносящиеся вблизи старого дома, придают пейзажу еще большую прелесть, заволакивая желтизну лесов облаками паровозного пара.
Если вы, читатель, любите осень, то знаете, что осенью вода в реках приобретает от холода яркий синий цвет. В этот день вода была особенно синей, и по ней плыли желтые листья ив, пахнущие сладкой сыростью.
Мокрые листья берез налипают на ваши ботинки, на подножки вагонов, на большие дощатые щиты, где московские купцы расхваливают свой товар перед выглядывающими из вагонов провинциалами.
Вот об этих-то щитах, особенно об одном, призывавшем всех курить гильзы Катыка, я и хочу поговорить с вами, читатель.
В сентябрьский день, о котором мы только что упомянули, я встретил вблизи такого вот истрепанного дождями и солнцем щита с рекламами старика в поношенной морской шинели. Лицо старика поражало густым загаром, особенно заметным в обрамлении седины и в обстановке северной бледной осени. Казалось, солнце жарких морей так пропитало старческую кожу, что даже ненастье средней России не могло уничтожить его следов.
Жулик! - сердито выкрикнул старик и угрожающе взмахнул палкой.- Пройдоха, но башковитый субъект!
Вы это о ком?
О Катыке, милостивый государь, о фабриканте Катыке,- ответил старик доброжелательно: видимо, он был не прочь вступить в беседу.
Я спросил, почему Катык - пройдоха и жулик.
История эта очень длинная. Пойдемте, пожалуй, ко мне - я живу поблизости,- выпьем чайку. Я вам, кстати, о Катыке расскажу.
Старик провел меня в тот дворик, о каком говорилось выше, и ввел в комнату, блиставшую чистотой. На полках стояли чучела высоких птиц с розовым оперением. По стенам висело много морских карт, исчерченных красными карандашами, и акварелей, изображавших пустынные берега зеленого и бурного моря. На столе в строгом порядке лежали старые книги. Я взглянул на названия - то были труды по гидрографии различных морей и путешествия по Средней Азии и Каспийскому морю. Пока девочка, дочь хозяина, ставила нам самовар, старик откупорил коробку желтого феодосийского табака и скрутил толстую папиросу.
Вот что, батенька мой,- сказал он, окутываясь дымом,- позвольте прежде всего представиться. Зовут меня Игнатий Александрович Жеребцов. Я отставной моряк, гидрограф, составитель карт Каспийского моря. Мне, изволите ли видеть, стукнул уже восьмой десяток. Вы интересовались Катыком. Так вот, могу сообщить, что Катык весьма неудачно исправляет ошибку, сделанную мною в молодые годы, когда я только что окончил плавание по Каспийскому морю. Ошибка моя состояла в том, что имеющийся на этом море залив Кара-Бугазский,- не знаю, слыхали ли вы о нем или нет,- я первый обследовал и признал совершенно бесполезным для государства, как не обладающий никакими природными богатствами. Но, между прочим, мною было обнаружено, что дно залива состоит из соли, как потом оказалось - глауберовой. Кара-Бугаз - место необычайное по сухости воздуха, по едкой и густой воде, по глубокой пустынности и, наконец, по обширности своей. Он окружен песками. После плавания в его водах я заболел удушьем. Только здесь, на севере, болезнь меня оставила, а то, батенька, я каждую ночь задыхался и форменно умирал.
По глупости своей я хотел предложить правительству перегородить узкий вход в залив дамбой, дабы отрезать его от моря.
Зачем, спрашиваете? А затем, что я был убежден в глубокой вредности его вод, отравляющих несметные стаи каспийской рыбы. К тому же загадочное в те годы обмеление моря я толковал тем, что залив ненасытно поглощает каспийскую воду. Забыл вам сказать, что вода в залив идет сильным потоком. Я высчитал, что ежели залив загородить, то уровень моря начнет подыматься каждый год почти на вершок. Я предполагал сделать в плотине шлюзы и таким путем поддержи-вать в море тот уровень, какой необходим для судоходства. Но покойный Григорий Силыч Карелин, спасибо ему, отговорил меня от безумного этого проекта.
Я поинтересовался, почему этот проект, правда необыкновенный, старик называет безумным.
Видите ли, батенька мой, я уже говорил, что дно залива состоит из глауберовой соли. Ученые предполагают, что каждый год в водах залива оседают миллионы пудов этой соли. Величайшее, можно сказать, месторождение этой соли во всем мире, исключительное богатство - и вдруг все это было бы уничтожено единым ударом.
Вторая моя ошибка произошла по вине вот этих северных мест. Сам я калужец, а пятнадцать лет провел на Каспийском море. Там - ежели вы бывали, то должны знать - унылость, пыль, ветры, пустыни и ни травки, ни деревца, ни чистой текучей воды.
Мне бы надлежало, как только зародилось у меня подозрение в величайших богатствах кара-бугазских, заняться этим делом, разворошить ученых мужей, а я махнул на все рукой и помышлял лишь о том, как бы мне поскорей воротиться к себе, в жиздринские леса. Не нужен мне был Кара-Бугаз с его солью. Калужские свои перелески я не променял бы на десяток Кара-Бугазов. Хотелось мне, знаете ли, как бывало в младенчестве, подышать грибным воздухом да послушать, как шумят дожди по листве.
Понятно, слабости наши бывают сильнее велений ума. Отказался я от славы, совершил, можно сказать, преступление перед родом человеческим, уехал к себе под Жиздру - и был счастлив. А между тем слух, что лейтенант Жеребцов нашел в заливе дно из необыкновенной соли, дошел до ученых. В залив послали туркмен. Они привезли воду в бутылках. Сделали ей анализ, и обнаружи-лось, что это чистейшая глауберова соль, без коей немыслимо ни стеклоделие, ни другие многие производства.
Тут-то и вынырнул пройдоха Катык. Мало ему гильз да беговых лошадей - он решил добывать соль в заливе, благо зимой волны выкидывают ее на берег прямо горами. Учредил для этого акционерное общество, всех обкрутил; соль не вывозит, а Кара-Бугаз получил от правитель-ства почти в полное свое обладание. Вот потому-то я и говорю, что Катык этот ваш - изрядная шельма".
Дальше в своем рассказе Евсеенко подробно описывает забавные разговоры Жеребцова с дочкой хозяина и дружбу его с окрестными мальчишками. Для них Жеребцов был непререкаемым авторитетом в делах рыболовства и дрессировки голубей. Мальчишек он звал "пузыри" и "клопы".
По праздникам к нему приезжал из Москвы сын его умершего школьного товарища (письмо этому товарищу было приведено нами в начале первой главы) - мальчик с серебряной трубкой в горле. Вместе они мастерили ловушки для птиц и удочки или занимались химическими опытами.
Иногда Жеребцов оставлял мальчика у себя ночевать. Тогда в его комнате до позднего вечера не стихали разговоры. Жеребцов рассказывал о своих плаваниях, и, надо сказать, никогда у него не было столь внимательного собеседника. Мальчик слушал и долго не мог заснуть, глядя на звезды за окнами. Зато и спали они потом крепко, по-детски. Даже хриплые вопли петухов, приветствовавших новый серенький день, не могли прогнать сладкий их сон.
Однажды таким вот утром Жеребцов не проснулся.
Похоронили его на пустынном кладбище на опушке леса. На похороны пришли хозяин дачи - владелец сапожного заведения из Марьиной рощи, мальчик с серебряным горлом, несколько мальчишек-голубятников и Евсеенко.
Через неделю могилу занесло мокрой рыжей хвоей. Начались долгие дождливые ночи и короткие холодные дни, и о Жеребцове забыли все, кроме мальчика с серебряным горлом. Изредка он приезжал из Москвы на могилу. Придет, постоит несколько минут и уйдет по длинной просеке к станции, где подымаются к небу столбы пышного паровозного пара.
Все попытки разыскать могилу Жеребцова, предпринятые сейчас, оказались тщетными.
Мальчик с серебряным горлом
Я сожалею, что документы, касающиеся жизни Жеребцова, утеряны, а то, что дошло до нашего времени, очень отрывочно и скудно.
К счастью, перед самой смертью Жеребцов, будучи уже в отставке, познакомился с писателем Евсеенко. Писатель этот добросовестно поставлял многочисленные рассказы и повести для журналов «Нива» и «Родина». Немудрые эти вещи были рассчитаны на читателя, располагающего множеством свободного времени, преимущественно на дачника, и ни в какой мере не блистали талантом.
Евсеенко не был лишен дара изобразительности, но, как и многие его современники (дело относится к 90-м годам прошлого столетия), был заражен страстью улавливать настроения. Он описывал настроение природы, людей, животных, свое собственное и даже настроение целых городов и подмосковных дачных местностей.
В одной из этих местностей он и познакомился с Жеребцовым, тотчас же опытным глазом определил, что дряхлый и добродушный моряк неизбежно должен хранить в себе некий литературный сюжет, и взялся за выуживание этого сюжета. Сюжета не выудив, Евсеенко все же рассказ написал, но напечатать не успел, так как у него открылась тяжелая стадия чахотки и он был послан в Ялту, где вскоре и умер. Рукопись его рассказа, интересующую меня лишь в меру заключенных в ней сведений о последних днях Жеребцова – первого исследователя Кара-Бугазского залива, я и привожу здесь, сделав необходимые сокращения. Называется рассказ «Роковая ошибка».
«Если вы, читатель, бывали на художественных выставках, то должны помнить картины, где изображены заросшие просвирником провинциальные дворики. Ветхий, но теплый дом со множеством пристроек и крылечек, липы под окнами (в них гнездятся галки), трава, густо растущая среди щепок, черный щенок, привязанный на веревке, и забор с выломанными досками. За забором зеркальная гладь живописной реки и пышное золото осеннего леса. Теплый солнечный день в сентябре.
Дачные поезда, проносящиеся вблизи старого дома, придают пейзажу еще большую прелесть, заволакивая желтизну лесов облаками паровозного пара.
Если вы, читатель, любите осень, то знаете, что осенью вода в реках приобретает от холода яркий синий цвет. В этот день вода была особенно синей, и по ней плыли желтые листья ив, пахнущие сладкой сыростью.
Мокрые листья берез налипают на ваши ботинки, на подножки вагонов, на большие дощатые щиты, где московские купцы расхваливают свой товар перед выглядывающими из вагонов провинциалами.
Вот об этих-то щитах, особенно об одном, призывавшем всех курить гильзы Катыка, я и хочу поговорить с вами, читатель.
В сентябрьский день, о котором мы только что упомянули, я встретил вблизи такого вот потрепанного дождями и солнцем щита с рекламами старика в поношенной морской шинели. Лицо старика поражало густым загаром, особенно заметным в обрамлении седины и в обстановке северной бледной осени. Казалось, солнце жарких морей так пропитало старческую кожу, что даже ненастье средней России не могло уничтожить его следов.
– Жулик! – сердито выкрикнул старик и угрожающе взмахнул палкой. – Пройдоха, но башковитый субъект!
– Вы это о ком?
– О Катыке, милостивый государь, о фабриканте Катыке, – ответил старик доброжелательно: видимо, он был не прочь вступить в беседу.
Я спросил, почему Катык – пройдоха и жулик.
– История эта очень длинная. Пойдемте, пожалуй, ко мне – я живу поблизости, – выпьем чайку. Я вам, кстати, о Катыке расскажу.
Старик провел меня в тот дворик, о каком говорилось выше, и ввел в комнату, блиставшую чистотой. На полках стояли чучела высоких птиц с розовым оперением. По стенам висело много морских карт, исчерченных красными карандашами, и акварелей, изображавших пустынные берега зеленого и бурного моря. На столе в строгом порядке лежали старые книги. Я взглянул на названия – то были труды по гидрографии различных морей и путешествия по Средней Азии и Каспийскому морю. Пока девочка, дочь хозяина, ставила нам самовар, старик откупорил коробку желтого феодосийского табака и скрутил толстую папиросу.
– Вот что, батенька мой, – сказал он, окутываясь дымом, – позвольте прежде всего представиться. Зовут меня Игнатий Александрович Жеребцов. Я отставной моряк, гидрограф, составитель карт Каспийского моря. Мне, изволите ли видеть, стукнул уже восьмой десяток. Вы интересовались Катыком. Так вот, могу сообщить, что Катык весьма неудачно исправляет ошибку, сделанную мною в молодые годы, когда я только что окончил плавание по Каспийскому морю. Ошибка моя состояла в том, что имеющийся на этом море залив Кара-Бугазский, – не знаю, слыхали ли вы о нем или нет, – я первый обследовал и признал совершенно бесполезным для государства, как не обладающий никакими природными богатствами. Но, между прочим, мною было обнаружено, что дно залива состоит из соли, как потом оказалось – глауберовой. Кара-Бугаз – место необычайное по сухости воздуха, по едкой и густой воде, по глубокой пустынности и, наконец, по обширности своей. Он окружен песками. После плавания в его водах я заболел удушьем. Только здесь, на севере, болезнь меня оставила, а то, батенька, я каждую ночь задыхался и форменно умирал.
По глупости своей я хотел предложить правительству перегородить узкий вход в залив дамбой, дабы отрезать его от моря.
Зачем, спрашиваете? А затем, что я был убежден в глубокой вредности его вод, отравляющих несметные стаи каспийской рыбы. К тому же загадочное в те годы обмеление моря я толковал тем, что залив ненасытно поглощает каспийскую воду. Забыл вам сказать, что вода в залив идет сильным потоком. Я высчитал, что ежели залив загородить, то уровень моря начнет подыматься каждый год почти на вершок. Я предполагал сделать в плотине шлюзы и таким путем поддерживать в море тот уровень, какой необходим для судоходства. Но покойный Григорий Силыч Карелин, спасибо ему, отговорил меня от безумного этого проекта.
Я поинтересовался, почему этот проект, правда необыкновенный, старик называет безумным.
– Видите ли, батенька мой, я уже говорил, что дно залива состоит из глауберовой соли. Ученые предполагают, что каждый год в водах залива оседают миллионы пудов этой соли. Величайшее, можно сказать, месторождение этой соли во всем мире, исключительное богатство – и вдруг все это было бы уничтожено единым ударом.
Вторая моя ошибка произошла по вине вот этих северных мест. Сам я калужец, а пятнадцать лет провел на Каспийском море. Там – ежели вы бывали, то должны знать – унылость, пыль, ветры, пустыни и ни травки, ни деревца, ни чистой текучей воды.
Мне бы надлежало, как только зародилось у меня подозрение в величайших богатствах кара-бугазских, заняться этим делом, разворошить ученых мужей, а я махнул на все рукой и помышлял лишь о том, как бы мне поскорей воротиться к себе, в жиздринские леса. Не нужен мне был Кара-Бугаз с его солью. Калужские свои перелески я не променял бы на десяток Кара-Бугазов. Хотелось мне, знаете ли, как бывало в младенчестве, подышать грибным воздухом да послушать, как шумят дожди по листве.
Понятно, слабости наши бывают сильнее велений ума. Отказался я от славы, совершил, можно сказать, преступление перед родом человеческим, уехал к себе под Жиздру – и был счастлив. А между тем слух, что лейтенант Жеребцов нашел в заливе дно из необыкновенной соли, дошел до ученых. В залив послали туркмен. Они привезли воду в бутылках. Сделали ей анализ, и обнаружилось, что это чистейшая глауберова соль, без коей немыслимо ни стеклоделие, ни другие многие производства.
Тут-то и вынырнул пройдоха Катык. Мало ему гильз да беговых лошадей – он решил добывать соль в заливе, благо зимой волны выкидывают ее на берег прямо горами. Учредил для этого акционерное общество, всех обкрутил; соль не вывозит, а Кара-Бугаз получил от правительства почти в полное свое обладание. Вот потому-то я и говорю, что Катык этот ваш – изрядная шельма».
Дальше в своем рассказе Евсеенко подробно описывает забавные разговоры Жеребцова с дочкой хозяина и дружбу его с окрестными мальчишками. Для них Жеребцов был непререкаемым авторитетом в делах рыболовства и дрессировки голубей. Мальчишек он звал «пузыри» и «клопы».
По праздникам к нему приезжал из Москвы сын его умершего школьного товарища (письмо этому товарищу было приведено нами в начале первой главы) – мальчик с серебряной трубкой в горле. Вместе они мастерили ловушки для птиц и удочки или занимались химическими опытами.
Иногда Жеребцов оставлял мальчика у себя ночевать. Тогда в его комнате до позднего вечера не стихали разговоры. Жеребцов рассказывал о своих плаваниях, и, надо сказать, никогда у него не было столь внимательного собеседника. Мальчик слушал и долго не мог заснуть, глядя на звезды за окнами. Зато и спали они потом крепко, по-детски. Даже хриплые вопли петухов, приветствовавших новый серенький день, не могли прогнать сладкий их сон.
Однажды таким вот утром Жеребцов не проснулся.
Похоронили его на пустынном кладбище на опушке леса. На похороны пришли хозяин дачи – владелец сапожного заведения из Марьиной рощи, мальчик с серебряным горлом, несколько мальчишек-голубятников и Евсеенко.
Через неделю могилу занесло мокрой рыжей хвоей. Начались долгие дождливые ночи и короткие холодные дни, и о Жеребцове забыли все, кроме мальчика с серебряным горлом. Изредка он приезжал из Москвы на могилу. Придет, постоит несколько минут и уйдет по длинной просеке к станции, где подымаются к небу столбы пышного паровозного пара.
Все попытки разыскать могилу Жеребцова, предпринятые сейчас, оказались тщетными.
Черный остров
Окропленные вашею кровью
Красным знаменем реют,
над нами шумя.
Маяковский
Кончался январь 1920 года. Шторм бил брызгами в окна низких портовых зданий. Тяжелый дождь шумел по улицам Петровска. Горы дымились. К северу от Петровска до Астрахани море лежало подо льдом.
Старый пароход «Николай», захваченный белогвардейцами, разводил пары. В неприбранных каютах висели прошлогодние календари и засиженные мухами портреты Колчака. К палубе прилипли окурки и пожелтевшие газеты. В штурманской рубке синий от холода вахтенный, нахохлившись, ждал капитана. Капитан пропадал в городе.
Вонючий дым над трубой камбуза возвестил, что кок варит ячневую кашу с мышиным пометом. Но даже это событие не разогнало уныния, разъедавшего корабль подобно ржавчине. Матросы валялись в кубрике. В кают-компании спал на красном плюшевом диване желтый и злой официант.
Воспользовавшись сумрачным днем, из всех щелей ползли тощие пароходные клопы. В трюме сипло пропел украденный накануне петух.
«Пора нашей гитаре на кладбище», – подумал вахтенный и посмотрел на штурвал, где можно было заметить медную дощечку, сообщавшую, что пароход «Николай» построен в 1877 году.
Вахтенный посмотрел, кстати, на желтую, видавшую виды трубу. Из нее валил рыжий дым.
– Что они, мусором топят, что ли? – сказал вахтенный и вздрогнул: в сыром дыму на горах громыхнул пушечный выстрел.
Из кубрика вылез матрос в калошах на босу ногу. Он вяло протащил по палубе занемевшие ноги, поднялся на мостик и прислушался: глухие удары учащались.
– Похоже, бьют кадет красные, – сказал он вахтенному. – Красные, – зашептал он, и глаза его сузились, – наступают от Хасав-Юрта, ночью будут в Петровске. С капитаном надо поговорить насчет этого. Команда полагает, что надо тикать от эвакуации. Снимемся вечером и сунемся в море – тихо, благородно, без кадет, без оружия.
Матрос махнул рукой на восток, где море кипело, как котел с мыльной и грязной пеной.
Вахтенный взглянул на корму – там хлопал мокрый трехцветный флаг – и вздохнул. Эх, если бы все вышло так, как задумано! Удрать от деникинцев, от эвакуации!
– Капитан пропал, засыплемся мы из-за этого, – тоскливо пробормотал он и вышел на палубу.
Он вгляделся в дождь, наискось бивший по гнилым пристаням, и сплюнул. Толпа людей в зеленых английских шинелях шла к пароходу. Они волочили на веревке пулемет и шли прямо по лужам, разбивая их набухшими бутсами. Сбоку вахтенный заметил знакомую фигуру капитана в дождевом плаще. Капли быстро стекали с его усов, и казалось, что капитан безмолвно плачет.
Отряд деникинцев влез на палубу по скользкому трапу. Офицер с выпуклыми серыми глазами прошел в кают-компанию, потянул за ногу спавшего официанта и хрипло сказал:
– Пошел на свое место, ворюга!
Официант вытащил из кармана салфетку, вытер лицо и вышел.
Закрыв дверь каюты, он посмотрел на нее так, что, если бы дверь была живым существом, она бы содрогнулась от страха.
Солдаты с трехцветными нашивками на рукавах – «батальон смерти» – рвали двери кают, не дожидаясь, пока принесут ключи, и грозили кому-то, стиснув зубы. У трапа поставили часового.
Капитан вошел в штурманскую рубку и дрожащими руками долго расстегивал набрякший плащ. Вахтенный уныло смотрел на него и ждал.
Наконец капитан достал медный погнутый портсигар и закурил.
– Ну, попали! Назначили нас под эвакуацию. Я в штабе ругался. У меня судно в порту на якоре и то разваливается. Куда же его гнать в море в такую штормягу? Смеются: «Мы, говорят, дадим такой груз, что не жалко». – «Какой такой груз?» – «Большевиков из тюрьмы, вот кого. Слыхали?» – «Куда же их девать?» – «Да, говорят, есть для них подходящее место. Куда прикажем, туда и повезете. А если не хотите выходить в море, то поговорим в подвале. Тогда захотите».
Капитан сел и потянул к себе судовой журнал. В горах опять тяжело прогремело. За дождем блеснул желтый огонь. В журнале стояли кривые строчки: «Ветер норд-ост силой в 10 баллов. Волнение – 9 баллов. Воды в трюмах – 30 сантиметров».
– Воды в трюмах тридцать сантиметров! – Капитан отшвырнул журнал и криво улыбнулся. – Людей будем сажать в трюмы. – Лицо его налилось сизой кровью. – В воду, в трюмы! Доплавались под николаевским флагом, дошли до ручки. Живой груз повезем, как быков на убой. Эх, вы…
Он хотел еще что-то прибавить, но осекся: в дверях стоял офицер с выпуклыми глазами.
– Голубчик капитан, – он галантно переступил через высокий порог рубки, – распорядитесь открыть трюмы. Сейчас приведут заключенных.
Трюмы были открыты, но заключенных привели только в полночь, когда от нефтяных складов уже горохом сыпалась ружейная перестрелка.
Красные рвались к городу. Переход на сторону деникинцев турецкого офицера Казым-бея, командовавшего красными частями, не спас города. Казым-бей – черное его имя гремело тогда по Дагестану – был агентом мусаватистов. Он проник в расположение красных частей, завоевал их доверие, участвовал в боях и ждал удобной минуты, чтобы предать. Измена Казым-бея удесятерила ярость красных. Они перешли в наступление по всему фронту, и их передовые отряды уже дрались на подступах к Петровску.
«Николай» сипел мятым паром и качался у пристани черной нелепой тушей, – огней приказано было не зажигать. Море, порт, город, горы – все превратилось в глухую, порывистую от ветра тьму. Белела только пена, переливаясь через изуродованный бурями мол.
Заключенных привели очень тихо. Вахтенный считал их, стоя на мостике.
– Больше ста человек, – сказал он капитану, когда последняя черная тень, подгоняемая прикладами, медленно полезла в трюм. Из трюма несло холодом и запахом гнилой кожи.
Отошли ночью.
«Николай» обогнул мол, затрещал, вскрикнул и высоко вздернул нос. Ледяные горы воды подкатывали под его ветхое днище. В кают-компании посыпались со столов стаканы.
Деникинцы сбились у поручней. Они смотрели на берег, где тускло и часто вспыхивали огни рвущихся снарядов. Официант смотрел вместе с ними. Ветер поднимал его редкие волосы. В борт чугунными билами молотила каспийская волна.
Перед отвалом на пароход вошел старый офицер с седой подстриженной бородкой. Тонкие его ноги были в шелковых черных обмотках, редкие волосы разделены тщательным пробором. Он потребовал в кают-компанию чаю, велел позвать капитана, медленно развернул на столе карту и положил на нее маленькие руки.
Капитан вошел, красный от ветра, и угрюмо остановился у двери.
– Подойдите поближе. – Офицер сухо улыбнулся.
Улыбка эта испугала капитана: так обычно улыбаются в присутствии обреченных людей.
– Слушаю. – Капитан подошел к карте.
Офицер вынул красный карандаш, не торопясь очинил его лезвием безопасной бритвы, закурил, прищурился и, выискав что-то на карте, поставил жирный крест. Потом, примерившись, провел через все море ровную линию от Петровска до отмеченного места.
– Держитесь вот этого курса, – сказал он.
Капитан взглянул на карту.
– Курс на Кара-Бугаз? – спросил он испуганно.
– Примерно так. Но только примерно. Держите немного севернее, вот к этому острову. Как он называется? Позвольте… – Офицер взглянул на карту. – К острову Кара-Ада.
– Нельзя, – глухо сказал капитан.
– То есть как это нельзя?
– Около острова нет якорных стоянок. При этом курсе шторм бьет в борт, а мы идем без груза. Считаю такое направление опасным.
– Но ведь шторм как будто стихает, – вкрадчиво проговорил офицер.
– Вообще плавание у берегов Кара-Бугаза зимой невозможно. Там нет огней, множество рифов. Я не вправе подвергать риску ни людей, ни судно. Море в тех местах пустынное.
– Ах так! – нараспев сказал офицер. – Вот и отлично. Нам как раз и нужно пустынное море. Да, нужно! – неожиданно крикнул он визгливым фальцетом. – Потрудитесь выполнять распоряжения, иначе я засажу вас в трюм к этим скотам. Команде сообщить, что мы идем в Красноводск. Не шляться по палубе без дела. Все. Ступайте!
Капитан вышел. В штурвальной рубке он заметил часового. Часовой стоял рядом с матросом и смотрел на картушку компаса, сверяя что-то по бумажке.
«Попали в капкан, не открутимся!» – подумал капитан. У себя в каюте он достал лоцию Каспийского моря, нашел описание острова Кара-Ада и прочел его.
В лоции было сказано, что этот совершенно пустынный и безводный остров, представляющий собою осколок скалы, лежит в одной миле от восточного берега моря, против мыса Бек-Таш, к северу от Кара-Бугазского залива. Остров изобилует змеями. Место для высадки со шлюпок только одно. Подходы к острову опасны из-за множества рифов. Якорных стоянок нет. Грунт – голая каменная плита – совершенно не держит якорей.
– Крышка! – Капитан бросил лоцию на стол.
Море валило горами. Жалкие мачтовые огни освещали высокий нос, дергавшийся из стороны в сторону. Сам по себе звонил колокол – это значило, что размахи доходят до сорока градусов. Офицер с выпуклыми глазами испуганно полез на спардек и лег грудью на борт – его рвало. Он блевал в черную воду, стонал и ругался. Январская ночь летела с востока со свистом и гулом, предвещая неизбежную гибель.
В трюме было темно, и от борта к борту переливалась вода. Заключенные сидели и лежали на мокрых досках. Их швыряло из угла в угол. Они хватались за ребра ржавых шпангоутов, разбивали в кровь лица, глохли от пушечных ударов волн и стонали от жестоких приступов морской болезни. Немногие из них сознавали, что это гибель, что дрянной пароход идет порожняком, что его кренит на сорок градусов, что он может каждую минуту лечь на борт и не встать, но все прекрасно знали, что впереди, на той неизвестной суше, куда их высадят, их ждет смерть.
Прекрасно знал это и геолог Шацкий, попавший в число заключенных случайно. Он не был большевиком. Он пытался пробраться из Петровска в Астрахань. Его заподозрили в шпионаже, арестовали и три раза водили в Петровске на расстрел, но не расстреляли. Водили ночью. Забирали из камер по пятидесяти заключенных и выводили на свалку, где жили разжиревшие от мертвечины псы.
Смертников выстраивали и пересчитывали. Первый раз расстреливали каждого десятого; Шацкий в эту ночь оказался восьмым. Второй раз расстреливали каждого пятого, но Шацкий оказался четвертым. В третий раз расстреливали каждого четвертого, но Шацкому опять повезло – он был первым. После третьего раза он поседел. Его и других уцелевших белые заставляли стаскивать трупы расстрелянных в старые известковые ямы.
Командовал расстрелами офицер с выпуклыми серыми глазами. Каждый раз он напивался для храбрости, ругал заключенных «падалью» и заставлял их, построившись в шеренгу, по нескольку раз менять места перед расчетом. На языке конвоиров – болезненного вида юношей с пьяными, мутными глазами – это называлось «венской кадрилью».
В Петровск Шацкий попал с полуострова Мангышлак. После разведки каменного угля и фосфоритов в горах Кара-Тау он хотел пройти к Кара-Бугазу, но киргизы-проводники наотрез отказались вести его. Был разгар лета, и по пути к Кара-Бугазу, в песках Карын-Ярык, не стало ни капли воды. Пришлось вернуться через дикое плоскогорье Удюк обратно в форт Александровский. В форте Шацкий прожил три месяца. Ему даже понравилось уныние этого серого городка, где не было тогда никакой власти. В форте он написал отчет об экспедиции и интересную работу о запасах воды на сухом, как проклятие, Мангышлаке.
Во время экспедиции он заметил, что жалкие ручьи в горах Кара-Тау текут всегда из-под каменных россыпей. Шацкий принадлежал к людям, привыкшим давать объяснения всему. Он жил в мире точных законов и достоверных гипотез.
Несколько дней он думал над происхождением этих ручьев, потом нанял двух мальчишек, и они натаскали ему в пустой цементный бассейн на дворе кучу голышей с морского берега. Хозяин-рыбак решил, что Шацкий свихнулся от тоски по России и от «науки».
Шацкий с мальчишками завалил весь бассейн голышами, а на третье утро вынул часть камней. Нижние камни оказались мокрыми: на дно бассейна натекла лужица чистой воды.
Вопрос был решен: на Мангышлаке, как и всюду в пустыне, летние дни отличаются жестокой жарой, а летние ночи холодны, как мартовские ночи в Москве. Каменные россыпи являются природными конденсаторами паров из воздуха, быстро остывающих ночью. Эти россыпи вбирают влагу, пропускают ее вниз и хранят под своими слоями.
Больше всех был в восторге от открытия Шацкого его хозяин. Он мечтал выстроить большой бассейн, засыпать его галькой и каждое утро собирать десять ведер вкусной пресной воды вместо тухлой воды из колодца.
Смотреть на бассейн приходил бывший неограниченный владетель Мангышлака – купец Захарий Дубский. Шацкий с неприязнью отвечал на назойливые расспросы позеленевшего старикашки в вытертом люстриновом пиджаке.
До революции Дубский был миллионером. Он взял на откуп у царского правительства весь Мангышлак. Ему одному были разрешены торговля и рыбная ловля без соблюдения законов «об охране рыбных богатств». Богомольный и ласковый старик платил киргизам-рабочим за всю путину по два рубля, торговал водкой и посылал гостинцы своему «благодетелю», великому князю Николаю Михайловичу, жившему в Ташкенте. Этот седобородый князь славился на весь Закаспийский край тем, что нагишом гулял в сильную жару по своему саду и дому. В таком виде он принимал просителей и выслушивал доклады.
Дубский подивился на бассейн Шацкого, засунул руку на дно, поскреб там желтым ногтем, недоверчиво пососал мокрый палец и пригласил Шацкого к себе на дачу. Дача стояла на берегу моря, около маяка Тюб-Караган, и была знаменита несколькими чахлыми деревцами. Шацкий невзлюбил этот нелепый дом, где старовер-купец изнывал от чаепитий, поглядывая на дымную мглу, курившуюся над пустыней.
Пустыня вплотную подступала к форту. Она стерегла его у городских застав. Ее тощая глина и серая полынь нагоняли тоску. К тоске этой примешивалась легкая гордость: угрюмость пустыни была величава, беспощадна, и немногим, думал Шацкий, посчастливилось пережить захватывающие ощущения бесплодных и неисследованных пространств.
Кроме Дубского, в форте Александровском жил на покое отставной генерал-дурак, изобретавший ловушки для сусликов. Некогда он командовал местным захолустным гарнизоном. Рыбаки рассказывали, как этот генерал, только что прибыв в форт, вылетел на парад на разъяренном гнедом жеребце. Он подскакал к киргизам и, желая приветствовать их на родном языке, громовым голосом гаркнул:
– Здорово, саксаулы!
Киргизы испугались. Весь город потом несколько дней помирал от хохота.
Самыми интересными обитателями форта были рыбаки-зверобои, специалисты по добыче тюленей. Тюлений бой считался опасным и жестоким делом. Зимой зверобои большими обозами выезжали по льду в море. Всю осень перед этим откармливали и ярили лошадей. Лошадь на тюленьем бое решала все: если лед трескался с пушечным гулом и начинал медленно уползать в море, зверобои бешено гнали лошадей к берегу, и дикие эти лошади перескакивали с санями через трещины.
Били только детенышей тюленей – белков, еще не умевших плавать. Били палками на льду и привозили в форт золотистые дорогие шкурки.
Каждую зиму гибло несколько зверобойных артелей – кошей. Их относило на льдинах в море, в сторону Персии. Спасали редко: в форте не было телеграфа, чтобы дать знать в Россию о несчастье.
Шацкий узнал, что в форте Александровском томился в ссылке Тарас Шевченко, забритый в солдаты и отправленный в каторжный мангышлакский гарнизон за «распространение вредных идей».
Только в ноябре Шацкому удалось на рыбачьей шхуне – реюшке – перебраться из форта в Петровск.
Сейчас Шацкий лежал в трюме рядом с матросом– большевиком – эстонцем Миллером. С ним он просидел три месяца в тюрьме. Их вместе два раза водили на расстрел, и если Шацкий не сошел с ума, то только благодаря Миллеру.
Молчаливый этот юноша в морской каскетке скупо рассказывал о родной Эстонии, о дюнах и старинном Ревеле. Шацкий никак не мог отделаться от впечатления, что сейчас в Ревеле пасмурная зима, пахнущая зеленоватым балтийским льдом, нарядная от тихих огней и пустынная, ибо тысячи Миллеров ушли из дому и дрались в красных частях под Самарой и Шенкурском, сидели в вонючих тюрьмах, голодали, жили в дырявых, обледенелых теплушках.
Миллер попал в плен во время разведки. Деникинцы неизбежно должны были, как он говорил, «укоцать» его, но он думал о чем-то далеком от смерти, должно быть, о бегстве.
Когда в ночи расстрелов Шацкого била дрожь, Миллер похлопывал его по спине и напоминал:
– Бросьте! Раз родились – все равно помрем.
Шацкого поражала выдержка Миллера, штурвального Балтийского флота, ставшего большевиком в жаркие дни июля семнадцатого года. Миллер был моложе Шацкого на десять лет, не знал и сотой доли того, что было известно Шацкому, но геолог чувствовал себя перед ним мальчишкой.
Миллер был непримирим и хорошо усвоил то, о чем геолог не имел понятия, – законы борьбы и победы. Он смотрел на людей спокойно и понимающе, всегда насвистывал, а на допросах отвечал очень вежливо, но неясно, улыбался и со скукой, как на давно знакомый трюк, смотрел на бесившихся, бледных офицеров.
Он прославился тем, что довел до истерики начальника контрразведки и после этого спокойно налил и подал ему стакан воды. Начальник смахнул стакан со стола, ударил стеком по бумагам и пообещал Миллеру повесить его в тот же вечер, но не повесил.
Контрразведка считала Миллера «опасным субъектом» и комиссаром и надеялась вымотать из него важные сведения. Его ни разу не били шомполами. Конвоиры поглядывали на Миллера с некоторым почтением: «Твердый, гад, видать, боевой».
Сейчас в трюме одессит Школьник – бывший шорник и партизан – пробрался к Миллеру, единственному моряку среди заключенных, попросил закурить и сказал:
– Ты моряк, ты знаешь устройство парохода.
– Ага, – ответил Миллер.
– Я решил такь (Школьник произнес это слово очень мягко). Надо потопить пароход вместе с той сволочью. – Школьник ткнул горящей папиросой вверх. – Открой кран, как он у вас зовется – кингстон или как иначе. Все одно нас убьют. Если пропадать, так кончим и их вместе. Такь.
– Кингстон не здесь, – равнодушно ответил Миллер. – К чему глупости? Их пластинка кончается, а из нас если десяток останется в живых, и то неплохо. Не устраивай массового самоубийства, Школьник, не делай паники.
– Такь! Такь! – с горечью пробормотал Школьник и отполз от Миллера.
Капитан всю ночь просидел у себя, не снимая пальто. Рассвет пришел поздно, только к восьми часам. В промерзлых каютах качался серый туман. За потными иллюминаторами все так же ревело море. На востоке, над необъятными пустынями Азии, желтела ледяная заря.
Капитан вышел на палубу. В кают-компании лежали на полу зеленые солдаты. Громадное и неуютное морское утро сочилось на их изжеванные шинели с трехцветными нашивками, на сваленные винтовки, на опухшие лица. Пахло блевотиной и спиртом. В грязном зеркале отражался вазон с высохшей фуксией.
Официант неизвестно зачем перетирал пожелтевшие чашки и накрывал столы хрустящими крахмальными скатертями. Застарелая привычка брала свое.
Он взглянул исподлобья на капитана и вздохнул. Да, кончились прекрасные плавания из Астрахани в Баку, когда даже он, официант, страдавший профессиональной мизантропией, шутил с пассажирами и трепал по головкам детей.
– Дожили, Константин Петрович! – Официант открыл дверцу пустого шкафа. – Может, водочки выпьете? Небось вся душа отсырела. Семкин вчерась в кубрике верно выразился: «плавучая виселица» мы, а не пароход «Николай».
Официант отвернулся и вытер грязной салфеткой глаза. Тощая его шея густо покраснела.
Капитан крякнул и пошел на мостик. Там стоял с биноклем на ремешке вчерашний старый офицер на тонких ножках. Он смотрел на восток и морщился.
Офицер подошел к капитану, ласково заглянул в глаза и спросил, почесывая бородку:
– Когда же будет наконец Кара-Ада, капитан?
– Когда придем, тогда и будет.
– Так, так, так, понимаю. – Офицер вынул золотой портсигар и закурил, не предложив капитану. – Так, так, так. – Он положил капитану руку на плечо. Рука показалась чугунной. – Когда будем в пяти милях от острова, сообщите мне. Кстати, артачиться нет ни малейшего смысла. – Он стиснул капитанское плечо. – Рейс секретный. Предупредите людей, что за болтовню они ответят головой.
Капитан кивнул и осторожно высвободил плечо. Офицер, покачиваясь на паучьих ножках, забалансировал к трапу.
Через два часа вахтенный матрос доложил, что открылся берег. Шторм стихал. Ледяная вода медленно лизала борта «Николая». В ясности зимнего дня наплывали черные низкие обрывы, грубо вытесанные на синем блестящем небе. «Николай» шел тихим ходом к одинокому острову, окруженному пеной бурунов.
– Совершенно точно.
– Любопытно узнать, чем же эта соль так замечательна?
Жеребцов улыбнулся:
– Определение необыкновенности получилось на корвете забавное. Найденную при пробе грунта соль мы сложили на палубе, дабы подсушить, а корабельный кок, человек скудный умом, посолил ею борщ для команды. Через два часа весь экипаж заболел жесточайшей слабостью желудка. Соль оказалась равной по действию касторовому маслу.
Карелин беззвучно затрясся. Казалось, вместе с ним смеялись и его кресло и самый воздух кабинета, где заметно начала приплясывать слоеная гуща крепчайшего табачного дыма.
– Сударь мой, – сказал Карелин, отсмеявшись, – я ошибался, подобно вам. Я почитал Кара-Бугаз бесплодным и как бы созданным природой назло людям. Но с недавнего времени, изучая дневники свои и думая о смертоносных водах залива, я пришел в сомнение, ибо в натуре, нас окружающей, почти нет такого зла, коего нельзя было бы употребить на потребу и выгоду человека. Едкая кара-бугазская соль является солью необычайной, и, думается мне, не глауберова ли это соль, иначе называемая щелочной? Действие ее на вашу команду весьма примечательно. Буде же в заливе осаждается глауберова соль, то уничтожение залива – преступление. Соль сия обладает многими редчайшими свойствами. Одно из них, почти главнейшее, я хочу вам сообщить. – Карелин выдвинул ящик стола и достал желтоватую рукопись. Он погладил ее и обровнял края плотных листов. – Известно ли вам, что в России жил великий химик по имени Кирилл Лаксман?
– К стыду своему, Григорий Силыч, такого имени я не слыхал.
– Не к вашему стыду, милостивый государь, а к стыду всей страны нашей, где одаренные люди в той же цене, что и гурьевские будочники! – с прежней сердитостью прокричал Карелин. – Жизнь сего замечательного человека являет собой пример постоянных мучений. Его послали на службу в глушь сибирскую, в Барнаул. Лаксман тяготился служебными обязанностями и предпочитал странствовать по Сибири, когда и сделал много открытий, касающихся растительности и подземных богатств края. Одновременно он занимался химией. За заслуги научные его избрали академиком, но он, не желая сидеть в Петербурге, предпочел остаться в Сибири, заняв место горного советника. За пустую оплошность его с должности сняли и назначили исправником в Нерчинск. Вот-с, милейший мой лейтенант, какую подходящую должность подготовило российское правительство талантливому ученому и члену Академии наук… Так вот, указанный Кирилл Лаксман открыл возможность изготовлять из глауберовой соли великолепное стекло. Рукопись сия – его доклад об этом открытии. Глауберову соль Лаксман именует горькой. Глядите, что он пишет. – Карелин медленно прочел: – «Между многими новыми свойствами сея горькой соли, именуемой монгольскими народами «гуджар», наибольшего внимания достойна сила, ее в стекло претворяющая». При опытах своих Лаксман получил стекло белое и стекло черное, подобное китайскому лаку… Вот… – Карелин отодвинул рукопись. – Дальнейшие изъяснения излишни.
Закупорка залива вызовет перемену свойств воды и прекратит образование глауберовой соли. Утверждение ваше, что залив вызывает обмеление Каспийского моря, равно как и сожаление о погибающей рыбе, преувеличено. Без особой натуги я могу вас тут же разбить по всем пунктам. Но, пожалуй, лучше пойдем попить чайку, благо прислали мне из Уральска клюквенный сок.
Пропуская Жеребцова в столовую, Карелин сделал страшные глаза и прошептал:
– А вы уж и проект приготовили! В Петербурге сидят дураки. Они размышлять не любят, а прямо брякнут – закрыть залив на веки вечные и удивить Европу. Ежели бы вы упомянули слово «открыть», то государственные мужи, может быть, призадумались бы, а раз закрыть – так закрыть. Закрывать – это для них святое дело…
К шлюпке Жеребцов возвратился поздним вечером, а к корвету шлюпка подошла глухою ночью. В камышах, сухо шумевших по берегам Урала, крякали спросонок дикие утки. Над морем в стороне дагестанских берегов синими взрывами разверзались зарницы. С палубы слышался гул моря у песчаных отмелей.
Жеребцов долго ходил по юту, взволнованный своей ошибкой. Каспийское море, изученное им до тонкости, показалось зловещим и неведомым. В стороне пустыни, там, где лежала Эмба, возник купол огня. Жеребцов вздрогнул: уж не залив ли Кара-Бугазский опять дымит в этой встревожившей его кромешной темноте? Но то была луна, подымавшаяся над равнинами Усть-Урта.
Жеребцов набил трубку и досадливо вздохнул: впервые за два года плавания по этому морю он ощутил от него усталость. За бортом корвета сопели в воде спящие тюлени.
Вахтенный офицер шутливо сказал Жеребцову:
– Вы бы спать шли, Игнатий Александрович. В это время спит даже рыба в море.
Жеребцов спустился в каюту и открыл иллюминатор. От зарниц долетало глухое громыханье. Мучаясь духотой, Жеребцов вынул из стола чисто переписанный свой проект, изорвал его и выбросил через иллюминатор в море.
Мальчик с серебряным горлом
Я сожалею, что документы, касающиеся жизни Жеребцова, утеряны, а то, что дошло до нашего времени, очень отрывочно и скудно.
К счастью, перед самой смертью Жеребцов, будучи уже в отставке, познакомился с писателем Евсеенко. Писатель этот добросовестно поставлял многочисленные рассказы и повести для журналов «Нива» и «Родина». Немудрые эти вещи были рассчитаны на читателя, располагающего множеством свободного времени, преимущественно на дачника, и ни в какой мере не блистали талантом.
Евсеенко не был лишен дара изобразительности, но, как и многие его современники (дело относится к 90-м годам прошлого столетия), был заражен страстью улавливать настроения. Он описывал настроение природы, людей, животных, свое собственное и даже настроение целых городов и подмосковных дачных местностей.
В одной из этих местностей он и познакомился с Жеребцовым, тотчас же опытным глазом определил, что дряхлый и добродушный моряк неизбежно должен хранить в себе некий литературный сюжет, и взялся за выуживание этого сюжета. Сюжета не выудив, Евсеенко все же рассказ написал, но напечатать не успел, так как у него открылась тяжелая стадия чахотки и он был послан в Ялту, где вскоре и умер. Рукопись его рассказа, интересующую меня лишь в меру заключенных в ней сведений о последних днях Жеребцова – первого исследователя Кара-Бугазского залива, я и привожу здесь, сделав необходимые сокращения. Называется рассказ «Роковая ошибка».
«Если вы, читатель, бывали на художественных выставках, то должны помнить картины, где изображены заросшие просвирником провинциальные дворики. Ветхий, но теплый дом со множеством пристроек и крылечек, липы под окнами (в них гнездятся галки), трава, густо растущая среди щепок, черный щенок, привязанный на веревке, и забор с выломанными досками. За забором зеркальная гладь живописной реки и пышное золото осеннего леса. Теплый солнечный день в сентябре.
Дачные поезда, проносящиеся вблизи старого дома, придают пейзажу еще большую прелесть, заволакивая желтизну лесов облаками паровозного пара.
Если вы, читатель, любите осень, то знаете, что осенью вода в реках приобретает от холода яркий синий цвет. В этот день вода была особенно синей, и по ней плыли желтые листья ив, пахнущие сладкой сыростью.
Мокрые листья берез налипают на ваши ботинки, на подножки вагонов, на большие дощатые щиты, где московские купцы расхваливают свой товар перед выглядывающими из вагонов провинциалами.
Вот об этих-то щитах, особенно об одном, призывавшем всех курить гильзы Катыка, я и хочу поговорить с вами, читатель.
В сентябрьский день, о котором мы только что упомянули, я встретил вблизи такого вот потрепанного дождями и солнцем щита с рекламами старика в поношенной морской шинели. Лицо старика поражало густым загаром, особенно заметным в обрамлении седины и в обстановке северной бледной осени. Казалось, солнце жарких морей так пропитало старческую кожу, что даже ненастье средней России не могло уничтожить его следов.
– Жулик! – сердито выкрикнул старик и угрожающе взмахнул палкой. – Пройдоха, но башковитый субъект!
– Вы это о ком?
– О Катыке, милостивый государь, о фабриканте Катыке, – ответил старик доброжелательно: видимо, он был не прочь вступить в беседу.
Я спросил, почему Катык – пройдоха и жулик.
– История эта очень длинная. Пойдемте, пожалуй, ко мне – я живу поблизости, – выпьем чайку. Я вам, кстати, о Катыке расскажу.
Старик провел меня в тот дворик, о каком говорилось выше, и ввел в комнату, блиставшую чистотой. На полках стояли чучела высоких птиц с розовым оперением. По стенам висело много морских карт, исчерченных красными карандашами, и акварелей, изображавших пустынные берега зеленого и бурного моря. На столе в строгом порядке лежали старые книги. Я взглянул на названия – то были труды по гидрографии различных морей и путешествия по Средней Азии и Каспийскому морю. Пока девочка, дочь хозяина, ставила нам самовар, старик откупорил коробку желтого феодосийского табака и скрутил толстую папиросу.
– Вот что, батенька мой, – сказал он, окутываясь дымом, – позвольте прежде всего представиться. Зовут меня Игнатий Александрович Жеребцов. Я отставной моряк, гидрограф, составитель карт Каспийского моря. Мне, изволите ли видеть, стукнул уже восьмой десяток. Вы интересовались Катыком. Так вот, могу сообщить, что Катык весьма неудачно исправляет ошибку, сделанную мною в молодые годы, когда я только что окончил плавание по Каспийскому морю. Ошибка моя состояла в том, что имеющийся на этом море залив Кара-Бугазский, – не знаю, слыхали ли вы о нем или нет, – я первый обследовал и признал совершенно бесполезным для государства, как не обладающий никакими природными богатствами. Но, между прочим, мною было обнаружено, что дно залива состоит из соли, как потом оказалось – глауберовой. Кара-Бугаз – место необычайное по сухости воздуха, по едкой и густой воде, по глубокой пустынности и, наконец, по обширности своей. Он окружен песками. После плавания в его водах я заболел удушьем. Только здесь, на севере, болезнь меня оставила, а то, батенька, я каждую ночь задыхался и форменно умирал.
По глупости своей я хотел предложить правительству перегородить узкий вход в залив дамбой, дабы отрезать его от моря.
Зачем, спрашиваете? А затем, что я был убежден в глубокой вредности его вод, отравляющих несметные стаи каспийской рыбы. К тому же загадочное в те годы обмеление моря я толковал тем, что залив ненасытно поглощает каспийскую воду. Забыл вам сказать, что вода в залив идет сильным потоком. Я высчитал, что ежели залив загородить, то уровень моря начнет подыматься каждый год почти на вершок. Я предполагал сделать в плотине шлюзы и таким путем поддерживать в море тот уровень, какой необходим для судоходства. Но покойный Григорий Силыч Карелин, спасибо ему, отговорил меня от безумного этого проекта.
Я поинтересовался, почему этот проект, правда необыкновенный, старик называет безумным.
– Видите ли, батенька мой, я уже говорил, что дно залива состоит из глауберовой соли. Ученые предполагают, что каждый год в водах залива оседают миллионы пудов этой соли. Величайшее, можно сказать, месторождение этой соли во всем мире, исключительное богатство – и вдруг все это было бы уничтожено единым ударом.
Вторая моя ошибка произошла по вине вот этих северных мест. Сам я калужец, а пятнадцать лет провел на Каспийском море. Там – ежели вы бывали, то должны знать – унылость, пыль, ветры, пустыни и ни травки, ни деревца, ни чистой текучей воды.
Мне бы надлежало, как только зародилось у меня подозрение в величайших богатствах кара-бугазских, заняться этим делом, разворошить ученых мужей, а я махнул на все рукой и помышлял лишь о том, как бы мне поскорей воротиться к себе, в жиздринские леса. Не нужен мне был Кара-Бугаз с его солью. Калужские свои перелески я не променял бы на десяток Кара-Бугазов. Хотелось мне, знаете ли, как бывало в младенчестве, подышать грибным воздухом да послушать, как шумят дожди по листве.
Понятно, слабости наши бывают сильнее велений ума. Отказался я от славы, совершил, можно сказать, преступление перед родом человеческим, уехал к себе под Жиздру – и был счастлив. А между тем слух, что лейтенант Жеребцов нашел в заливе дно из необыкновенной соли, дошел до ученых. В залив послали туркмен. Они привезли воду в бутылках. Сделали ей анализ, и обнаружилось, что это чистейшая глауберова соль, без коей немыслимо ни стеклоделие, ни другие многие производства.
Тут-то и вынырнул пройдоха Катык. Мало ему гильз да беговых лошадей – он решил добывать соль в заливе, благо зимой волны выкидывают ее на берег прямо горами. Учредил для этого акционерное общество, всех обкрутил; соль не вывозит, а Кара-Бугаз получил от правительства почти в полное свое обладание. Вот потому-то я и говорю, что Катык этот ваш – изрядная шельма».
Дальше в своем рассказе Евсеенко подробно описывает забавные разговоры Жеребцова с дочкой хозяина и дружбу его с окрестными мальчишками. Для них Жеребцов был непререкаемым авторитетом в делах рыболовства и дрессировки голубей. Мальчишек он звал «пузыри» и «клопы».
По праздникам к нему приезжал из Москвы сын его умершего школьного товарища (письмо этому товарищу было приведено нами в начале первой главы) – мальчик с серебряной трубкой в горле. Вместе они мастерили ловушки для птиц и удочки или занимались химическими опытами.
Иногда Жеребцов оставлял мальчика у себя ночевать. Тогда в его комнате до позднего вечера не стихали разговоры. Жеребцов рассказывал о своих плаваниях, и, надо сказать, никогда у него не было столь внимательного собеседника. Мальчик слушал и долго не мог заснуть, глядя на звезды за окнами. Зато и спали они потом крепко, по-детски. Даже хриплые вопли петухов, приветствовавших новый серенький день, не могли прогнать сладкий их сон.
Однажды таким вот утром Жеребцов не проснулся.
Похоронили его на пустынном кладбище на опушке леса. На похороны пришли хозяин дачи – владелец сапожного заведения из Марьиной рощи, мальчик с серебряным горлом, несколько мальчишек-голубятников и Евсеенко.
Через неделю могилу занесло мокрой рыжей хвоей. Начались долгие дождливые ночи и короткие холодные дни, и о Жеребцове забыли все, кроме мальчика с серебряным горлом. Изредка он приезжал из Москвы на могилу. Придет, постоит несколько минут и уйдет по длинной просеке к станции, где подымаются к небу столбы пышного паровозного пара.
Все попытки разыскать могилу Жеребцова, предпринятые сейчас, оказались тщетными.
Черный остров
Окропленные вашею кровью
Красным знаменем реют,
над нами шумя.
Маяковский
Кончался январь 1920 года. Шторм бил брызгами в окна низких портовых зданий. Тяжелый дождь шумел по улицам Петровска. Горы дымились. К северу от Петровска до Астрахани море лежало подо льдом.
Старый пароход «Николай», захваченный белогвардейцами, разводил пары. В неприбранных каютах висели прошлогодние календари и засиженные мухами портреты Колчака. К палубе прилипли окурки и пожелтевшие газеты. В штурманской рубке синий от холода вахтенный, нахохлившись, ждал капитана. Капитан пропадал в городе.
Вонючий дым над трубой камбуза возвестил, что кок варит ячневую кашу с мышиным пометом. Но даже это событие не разогнало уныния, разъедавшего корабль подобно ржавчине. Матросы валялись в кубрике. В кают-компании спал на красном плюшевом диване желтый и злой официант.
Воспользовавшись сумрачным днем, из всех щелей ползли тощие пароходные клопы. В трюме сипло пропел украденный накануне петух.
«Пора нашей гитаре на кладбище», – подумал вахтенный и посмотрел на штурвал, где можно было заметить медную дощечку, сообщавшую, что пароход «Николай» построен в 1877 году.
Вахтенный посмотрел, кстати, на желтую, видавшую виды трубу. Из нее валил рыжий дым.
– Что они, мусором топят, что ли? – сказал вахтенный и вздрогнул: в сыром дыму на горах громыхнул пушечный выстрел.
Из кубрика вылез матрос в калошах на босу ногу. Он вяло протащил по палубе занемевшие ноги, поднялся на мостик и прислушался: глухие удары учащались.
– Похоже, бьют кадет красные, – сказал он вахтенному. – Красные, – зашептал он, и глаза его сузились, – наступают от Хасав-Юрта, ночью будут в Петровске. С капитаном надо поговорить насчет этого. Команда полагает, что надо тикать от эвакуации. Снимемся вечером и сунемся в море – тихо, благородно, без кадет, без оружия.
Матрос махнул рукой на восток, где море кипело, как котел с мыльной и грязной пеной.
Вахтенный взглянул на корму – там хлопал мокрый трехцветный флаг – и вздохнул. Эх, если бы все вышло так, как задумано! Удрать от деникинцев, от эвакуации!
– Капитан пропал, засыплемся мы из-за этого, – тоскливо пробормотал он и вышел на палубу.
Он вгляделся в дождь, наискось бивший по гнилым пристаням, и сплюнул. Толпа людей в зеленых английских шинелях шла к пароходу. Они волочили на веревке пулемет и шли прямо по лужам, разбивая их набухшими бутсами. Сбоку вахтенный заметил знакомую фигуру капитана в дождевом плаще. Капли быстро стекали с его усов, и казалось, что капитан безмолвно плачет.
Отряд деникинцев влез на палубу по скользкому трапу. Офицер с выпуклыми серыми глазами прошел в кают-компанию, потянул за ногу спавшего официанта и хрипло сказал:
– Пошел на свое место, ворюга!
Официант вытащил из кармана салфетку, вытер лицо и вышел.
Закрыв дверь каюты, он посмотрел на нее так, что, если бы дверь была живым существом, она бы содрогнулась от страха.
Солдаты с трехцветными нашивками на рукавах – «батальон смерти» – рвали двери кают, не дожидаясь, пока принесут ключи, и грозили кому-то, стиснув зубы. У трапа поставили часового.
Капитан вошел в штурманскую рубку и дрожащими руками долго расстегивал набрякший плащ. Вахтенный уныло смотрел на него и ждал.
Наконец капитан достал медный погнутый портсигар и закурил.
– Ну, попали! Назначили нас под эвакуацию. Я в штабе ругался. У меня судно в порту на якоре и то разваливается. Куда же его гнать в море в такую штормягу? Смеются: «Мы, говорят, дадим такой груз, что не жалко». – «Какой такой груз?» – «Большевиков из тюрьмы, вот кого. Слыхали?» – «Куда же их девать?» – «Да, говорят, есть для них подходящее место. Куда прикажем, туда и повезете. А если не хотите выходить в море, то поговорим в подвале. Тогда захотите».
Капитан сел и потянул к себе судовой журнал. В горах опять тяжело прогремело. За дождем блеснул желтый огонь. В журнале стояли кривые строчки: «Ветер норд-ост силой в 10 баллов. Волнение – 9 баллов. Воды в трюмах – 30 сантиметров».
– Воды в трюмах тридцать сантиметров! – Капитан отшвырнул журнал и криво улыбнулся. – Людей будем сажать в трюмы. – Лицо его налилось сизой кровью. – В воду, в трюмы! Доплавались под николаевским флагом, дошли до ручки. Живой груз повезем, как быков на убой. Эх, вы…
Он хотел еще что-то прибавить, но осекся: в дверях стоял офицер с выпуклыми глазами.
– Голубчик капитан, – он галантно переступил через высокий порог рубки, – распорядитесь открыть трюмы. Сейчас приведут заключенных.
Трюмы были открыты, но заключенных привели только в полночь, когда от нефтяных складов уже горохом сыпалась ружейная перестрелка.
Красные рвались к городу. Переход на сторону деникинцев турецкого офицера Казым-бея, командовавшего красными частями, не спас города. Казым-бей – черное его имя гремело тогда по Дагестану – был агентом мусаватистов. Он проник в расположение красных частей, завоевал их доверие, участвовал в боях и ждал удобной минуты, чтобы предать. Измена Казым-бея удесятерила ярость красных. Они перешли в наступление по всему фронту, и их передовые отряды уже дрались на подступах к Петровску.
«Николай» сипел мятым паром и качался у пристани черной нелепой тушей, – огней приказано было не зажигать. Море, порт, город, горы – все превратилось в глухую, порывистую от ветра тьму. Белела только пена, переливаясь через изуродованный бурями мол.
Заключенных привели очень тихо. Вахтенный считал их, стоя на мостике.
– Больше ста человек, – сказал он капитану, когда последняя черная тень, подгоняемая прикладами, медленно полезла в трюм. Из трюма несло холодом и запахом гнилой кожи.
Отошли ночью.
«Николай» обогнул мол, затрещал, вскрикнул и высоко вздернул нос. Ледяные горы воды подкатывали под его ветхое днище. В кают-компании посыпались со столов стаканы.
Деникинцы сбились у поручней. Они смотрели на берег, где тускло и часто вспыхивали огни рвущихся снарядов. Официант смотрел вместе с ними. Ветер поднимал его редкие волосы. В борт чугунными билами молотила каспийская волна.
Перед отвалом на пароход вошел старый офицер с седой подстриженной бородкой. Тонкие его ноги были в шелковых черных обмотках, редкие волосы разделены тщательным пробором. Он потребовал в кают-компанию чаю, велел позвать капитана, медленно развернул на столе карту и положил на нее маленькие руки.
Капитан вошел, красный от ветра, и угрюмо остановился у двери.
– Подойдите поближе. – Офицер сухо улыбнулся.
Улыбка эта испугала капитана: так обычно улыбаются в присутствии обреченных людей.
– Слушаю. – Капитан подошел к карте.
Офицер вынул красный карандаш, не торопясь очинил его лезвием безопасной бритвы, закурил, прищурился и, выискав что-то на карте, поставил жирный крест. Потом, примерившись, провел через все море ровную линию от Петровска до отмеченного места.